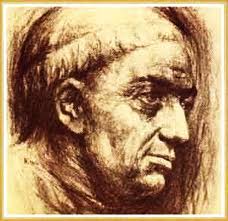ВЛАДИСЛАВ САРЫЧЕВ
В своих дневниках Михаил Лифшиц (один из немногих истинных марксистов XX века) оставил такую запись:
“Sehr wichtig (очень важно!)
То, что душа уходит из тела, не могло быть и не было простой глупостью. В этой мысли наивной выражается тот факт, что душа или жизнь не в теле самом по себе. Это что-то общее, принадлежащее внешнему миру, не тождественное с телом и не абсолютно в нём! Relation, Reaction, Reflexion (отношение, реакция, рефлексия). Пересмотр элементарного материализма.
– Веришь ли ты в Бога?
– Я верю в максимум всех вещей.
– Но он добрый, твой максимум?
– Откуда же люди взяли своё понятие о добре, если это не является слепком с некоторых закономерностей природы и общества, доказательством того, что добро не совсем бессильно среди фактов объективной жизни, а сама жизнь не совершенно равнодушна к добру и злу. Разумеется, карась-идеалист был неправ.”Varia, с. 57.
Показательно, что Лифшиц, ортодоксальный марксист, знаток текстов Маркса и Ленина выдвигает требование “пересмотра элементарного материализма”. Почему? Просто не может философия, для которой “материя – первична” – не может она объяснить в реальности самого основного. Отсюда и требование “пересмотра”.
Но какой же материализм кроме “элементарного” можно получить в итоге? “Диалектический”? Так он и так существовал в СССР на кафедрах “диамата-истмата”, представляя собой этакий позитивистский научпоп, приправленный “диалектической” фразеологией типа магического “перехода количества в качество и обратно”.
Это во-1-х. А во-2-х, Гегель верно же сказал: нет другой философии, кроме идеализма. Любой “материализм” – есть тот же идеализм, только наихудшего пошиба: Идею он принижает, делая её рабыней Материи. Но сама Материя, если задуматься, есть лишь обобщение, лишь абстрактное понятие, вторичное по отношению к понятию идеального – просто потому, что “материальное – это всё, что не идеальное”. Отрицательное определение типа: А есть не-Б – всегда свидетельствует о вторичности определяемого предмета (в нашем примере А). Так и с понятием “материи”: оно вторично по отношению к Идее.
Потому поиски Лифшицем какого-то нового, марксистского материализма – не более чем (неосознанное, скорее всего) нежелание признать простую вещь: марксизм не тотален, не обнимает собой всей реальности, не вполне истинен. Но трудно отказаться от веры всей своей жизни. Чисто по-человечески это понятно.
Однако, “Платон мне друг, но истина дороже…”
Лифшиц, несмотря на своё, практически иррациональное, нежелание признать ограниченность марксизма, всё же был очень глубоким мыслителем-диалектиком. Но вопреки или благодаря марксизму? Вот вопрос! И неслучайно, наверное, диалектика “вопреки-благодаря” – одна из излюбленных тем рассуждений философа.
И ещё. “Максимум всех вещей”, в который верил Лифшиц – отсылает к средневековому диалектику и теологу Николаю Кузанскому. В трактате “Об учёном незнании” тот говорит:
Николай Кузанский (1401-1464)
“Абсолютный максимум есть то единое, которое есть все; в нем все, поскольку он максимум; а поскольку ему ничто не противоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребывает во всем; в качестве абсолюта он есть актуально все возможное бытие и не определяется ничем вещественным, тогда как от него — все. Этот максимум, в котором, несомненно, и видит Бога вера всех народов, я постараюсь под водительством Того, кто один обитает в неприступном свете, исследовать как превышающую человеческий разум непостижимость в своей первой книге”.
Это, без сомнения, пантеизм, предвосхищающий “Этику” Спинозы. И всё верно у Кузанского, вот только через 400 лет спустя эти его абстрактные мысли вполне конкретно развил другой мыслитель, тоже немец – по фамилии Гегель.
Отчего бы Лифшицу не веровать не в Максимум Кузанского, а в более конкретную Абсолютную Идею Гегеля? Очевидно, марксистско-материалистическая стыдливость мешала, да и просто нежелание покидать прокрустово ложе любимой идеологии.
Но, повторюсь, эта непоследовательность, продиктованная привычками мышления (а это самые прочные привычки) не мешала Лифшицу доходить в познании реальности до самых её диалектических глубин.
К примеру, он первый, наверное, обратил внимание на то, что “лишённый Бога (то есть оторванный от объективной реальности, не слышащий её) марксизм” обречён. Потому и пытался “пересмотреть” не только “элементарный материализм”, но и весь марксизм. Вот только других “марксизмов” у истории в запасе не было…