Р. З. РУВИНСКИЙ
Настоящий доклад подготовлен в рамках участия в I Международной научно-практической конференции “Цифровые технологии и право”, проводившейся 23 сентября 2022 года в рамках Kazan Digital Week – 2022. Доклад посвящен долгосрочным перспективам внедрения новейших цифровых технологий в сферу публичного управления и формирования модели так называемого «платформенного» или «датафицированного» государства. В рамках проведенного исследования выявлены основные направления трансформаций современной государственности при переходе от проектов электронного правительства к экосистемам цифровых платформ. Описаны возможные последствия цифровой трансформации публичного управления для конституционализма, существования гражданского общества и места индивида в рамках формирующегося правопорядка.
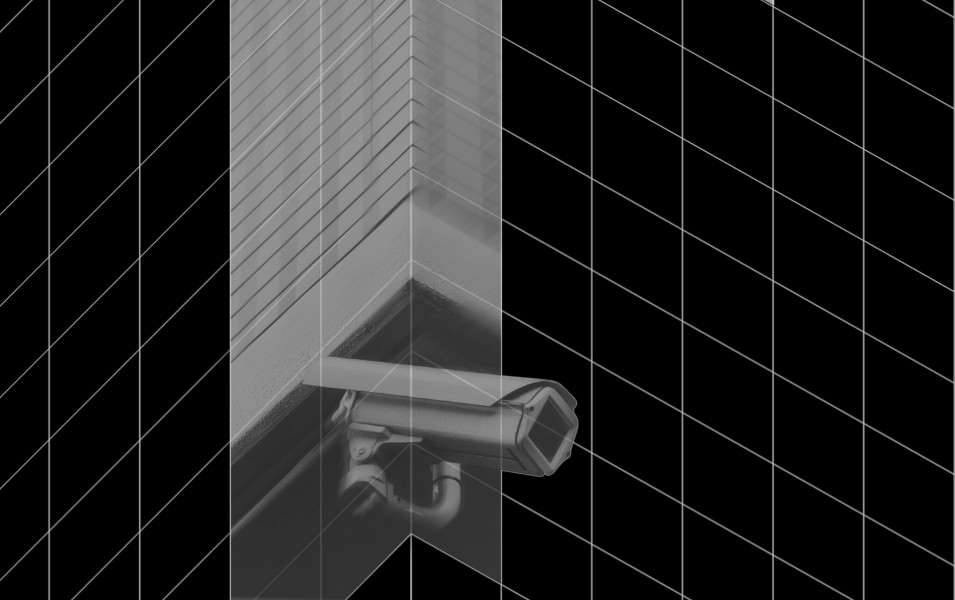
1. Введение.
Одной из наиболее острых тем, обсуждаемых сегодня юристами, управленцами, экономистами и социологами, несомненно, является цифровизация. Цифровизация, понимаемая как внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий в практику государственного и муниципального управления, в образование, организацию трудовой деятельности и иные сферы общественной жизни, как-то незаметно заменила другой влиятельный концепт — глобализацию, которую также широко обсуждали полтора–два десятилетия назад. Сегодня о глобализации вспоминают редко: с одной стороны, в условиях войны международных санкций и закрытия границ кажется, что мы становимся свидетелями обратной тенденции, тенденции к изоляционизму государств; с другой стороны, быть может, глобализационные процессы стали незаметны именно по той причине, что они успешно и в полной мере реализованы, и тот мир, который мы видим перед собой, является их порождением. Пожалуй, обсуждаемая нами цифровизация также является порождением глобализации мировой экономики, интернационализации и унификации управленческих трендов: об этом свидетельствует хотя бы то, что программы цифровой трансформации публичного сектора в настоящее время продвигаются параллельно практически во всех развитых странах мира, независимо от их идейных ориентиров и отношений друг с другом.
Все новое и эффективное у большинства людей вызывает немалый энтузиазм. Не будет преувеличением сказать, что почти все мы в какой-то степени очарованы новыми технологиями, зачастую не задумываясь о том трансформирующем эффекте, который они оказывают на социальные институты. При этом, вопреки распространенным взглядам, склонным рассматривать техно-социальные изменения как объективно-предзаданные, а прогресс как линейный, такие, вызываемые развитием науки и техники трансформации социального могут быть достаточно опасны.
В последние годы среди ученых и практиков все более активно обсуждаются идеи переустройства системы публичного (государственного и муниципального) управления, придания государству нового облика, чему должно поспособствовать внедрение прорывных информационно-коммуникационных технологий, и прежде всего — технологий сбора, хранения и алгоритмического анализа больших массивов данных, обмена данными. В ряду новейших идей переустройства системы публичного управления — цифровое профилирование (создание так называемых «цифровых двойников») граждан и организаций, развитие средств риск-ориентированной предиктивной аналитики, широкое применение алгоритмов искусственного интеллекта. Предполагается, что развитие проектов электронного правительства (e–government), стартовавших в передовых странах мира в конце 1990-х годов и предусматривавших изначально в основном ускорение и упрощение документооборота в государственных органах и учреждениях [18], на сегодняшний день позволяет произвести скачок в сторону сложных и сквозных интеллектуальных экосистем цифрового управления. В научной литературе уже можно встретить и своеобразные термины, подходящие для обозначения того образа управления, той модели государственности, к которой, по мнению энтузиастов «цифровой трансформации», следует двигаться: «государство-как-платформа» (platform state, Government–as–a–Platform) [4; 13], «датафицированное государство» (datafied state) [17], «цифровое государство» (digital state) [19; 22] и т. п.
Целью настоящей работы является выявление долгосрочных перспектив перехода к такой «платформенной», датафицированной модели государства, что, в свою очередь, требует проведения анализа качественных трансформаций современного государственно-организованного правового порядка и рисков «цифровой трансформации» для правового статуса гражданина и существования самого гражданского общества.
2. Платформенное государство: основания.
Современные системы цифрового публичного управления вырастают на базе проектов электронного правительства, однако имеют уже качественные отличия от того, что понималось под цифровизацией госсектора на заре этих проектов. Развитие проектов электронного правительства изначально предполагало в первую очередь перевод документооборота государственных ведомств из аналоговой формы в цифровую, возможность оперативной межведомственной передачи информации об интересующих лицах, удаленный доступ граждан к государственным и муниципальным услугам. Разрабатываемые сегодня системы значительно расширяют данный функционал: уже не отдельные взаимодействия физических и юридических лиц с государством должны осуществляться в электронной форме — сама жизнедеятельность современных субъектов должна перенестись в цифровой формат. По задумке проектантов и идеологов архитектуры цифрового публичного управления, как можно большая часть поведенческих актов субъектов должна осуществляться в цифровом формате, с помощью соответствующих программных средств (мобильных приложений, интернет-порталов и т. д.); поведенческие акты, осуществляемые в реальном, материально-осязаемом мире, т. е. в аналоговом формате, должны быть преобразованы в формат цифровой — тогда и управление поведением субъектов, контроль за их поведением также можно будет в значительной мере перевести в цифровую форму, передав эти функции полностью или частично автоматизированным системам, интеллектуальным алгоритмам. Если ранние проекты цифровизации госсектора были направлены преимущественно на перевод аналоговых процессов в электронный формат и выступали лишь вспомогательными средствами в руках бюрократических институтов государства, нынешние системы цифрового публичного управления (проектируемые как экосистемы микросервисов, основанных на единых стандартах и едином массиве данных) нацелены на то, чтобы в корне изменить сам характер такого управления.
Прежде чем задаться вопросом о том, какие последствия, помимо ожидаемых и широко рекламируемых адептами цифровизации (снижение финансовых и временных издержек, сокращение бюрократии), может иметь для современного правового порядка трансформация хорошо знакомого нам государства в государство платформенное, датафицированное, попытаемся разобраться с тем, что представляет из себя новая модель управления, на чем она должна основываться, какую инфраструктуру и какой функционал должна в себя включать.
Все современные проекты цифрового публичного управления основываются на работе с данными, касающимися лиц, находящихся в объективе управленческой (в т. ч. регуляторной и контрольно-надзорной) деятельности государства. Необходимым элементом «цифровизованного государства», таким образом, оказывается система сбора, хранения, фиксации, обмена и анализа (оценки) данных репутационного (биографического) характера о физических и юридических лицах, а также значимых характеристик, касающихся их (например, сведений о размере собственных денежных средств организации, о наличии у гражданина того или иного имущества, гражданства иностранного государства и т. п.). Работа с данными предполагает профилирование адресатов регуляторных и административных мер органов власти, иными словами — учет значимых данных о них в рамках инфраструктуры цифровых профилей («цифровых двойников»): субъект права в таком случае олицетворяется записями (или файлами) в соответствующих официальных базах данных, обмен между которыми организован в рамках экосистемы цифрового публичного управления. Логичным следствием программы цифрового профилирования является применение инструментов алгоритмического анализа данных к содержимому цифровых профилей: такой анализ предполагает оценку поведения и иных характеристик управляемых лиц, осуществляемую по тем или иным критериям. Результаты такой оценки в перспективе ведут к дифференциации регуляторных и административных мер в отношении субъектов с различным статусом в рамках инфраструктуры цифрового профилирования, иными словами — речь может идти о социальном ранжировании, проводимом в той или иной форме (это может быть оценка субъекта как «добросовестного» или «недобросовестного», исполнившего или не исполнившего некую обязанность, допускаемого или не допускаемого к определенным социальным благам / видам деятельности, наконец — это может быть балльное рейтингование).
Системы идентификации лиц и раскрытия информации (обмена информацией), инфраструктура цифровых профилей и интеллектуальные инструменты предиктивной аналитики, о которых авторы доклада Института стратегических разработок говорят как о необходимых составляющих «государства-как-платформы» [4], формируют вполне определенный модус развития управленческих механизмов: дифференцирование регуляторно-административных мер, дифференцирование перечня и объема публичных услуг, социальное ранжирование и выстраивание системы допусков и ограничений, в рамках которой допуск к тем или иным благам, общественным местам, рынкам и т. д. будет обусловлен содержанием официальных баз данных и результатами их алгоритмической оценки. Все это звучит уже не так благодушно, как может показаться на первый взгляд при некритичном ознакомлении с докладами, посвященными цифровой трансформации. Параллели с наделавшим много шума мегапроектом строительства в КНР так называемой «системы социального кредита» [15] напрашиваются сами собой, и это отнюдь не внешнее сходство.
По большому счету, руководство КНР реализует в настоящее время ту же самую программу радикальной трансформации публичного управления, что и весь цивилизованный мир за пределами Китая (убедиться в этом можно, ознакомившись, например, с докладами и отчетами влиятельных международных институтов и «мозговых центров» [9–12; 20]). Конечно, в зависимости от исторических и культурных особенностей той или иной страны, в зависимости от политического режима и принятых правовых стандартов, формы и способы осуществления такой трансформации государственно-правовых институтов могут серьезным образом различаться. В Китае недобросовестных, «подрываюших доверие» граждан, допустивших правонарушения или не исполняющих судебные постановления, не просто включают в черные списки, ограничивающие им участие в отдельных сферах правоотношений, но также публично изобличают и порицают [14. С. 90–91]. Это, очевидно, не соответствует традициям европейской правовой культуры, достаточно трепетно склонной относиться к раскрытию персональных данных. Тем не менее, если отрешиться от отдельных экзотических практик, ассоциирующихся в массовом сознании с системой социального кредита, если не видеть в китайской системе социального кредита одну лишь идею рейтинговой оценки граждан (на самом деле, на сегодняшний день в КНР рейтингование осуществляется лишь в качестве эксперимента на уровне отдельных муниципальных образований [21. С. 1050]), оказывается, что китайский «социальный кредит» является не больше не меньше чем разновидностью той модели государственности, которая вырастает буквально на наших глазах практически по всему миру. Кстати, о том, что социально-кредитные механизмы (т. е. средства регулирования и контроля поведения субъектов, процедуры их наказания и стимулирования, основанные на учете биографической, репутационной информации о них) могут сделаться моделью для других стран, основой для формирования некой новой версии конституционализма, уже предсказывалось в исследованиях ученых [5; 21].
Каков же тот новый конституционализм, тот новый режим управления и модель государственности, которые формируются в рамках проектов по выстраиванию «государства-как-платформы», датафицированного государства, «репутационного государства» (reputation state) [16] и системы социального кредита?
3. Направления трансформаций.
Все имеет свою цену, и в любом достижении содержится как благо, так и угроза. Удобство взаимодействия с государственными органами через цифровые платформы электронного правительства, как оказалось, имеет свою цену: распространение цифровизации и расширение областей общественной жизни, опосредуемых системами сбора и обработки данных, коренным образом меняет модель публичного управления, а вместе с ней также — существующие балансы взаимоотношений между властью и обществом, характер таких взаимоотношений, место и роль гражданина в формирующемся правовом порядке.
Экосистема цифровых платформ публичного управления с едиными стандартами, с максимальной заменой чиновников алгоритмами искусственного интеллекта, со сведением человеческого фактора к минимуму — т. е. все то, что сегодня принято ожидать от нового, «платформенного» государства — требует внедрения в госсектор подходов и наработок, реализуемых в настоящее время крупнейшими коммерческими IT-компаниями. Такой подход, в рамках которого система публичного управления из набора взаимосвязанных, но относительно обособленных государственных ведомств постепенно трансформируется в набор связанных друг с другом микросервисов, уже, как мы можем видеть, реализуется в современных проектах цифровизации государства: в российской платформе «Госуслуги», в украинской платформе «Дiя», французской платформе “FranceConnect”, датском портале гражданина “Borger” и др. подобных. Судя по всему, от государства ожидают еще большего сближения с моделью коммерческой корпорации [6. С. 127–156], и, очевидно, это сближение затрагивает отнюдь не только внешнюю форму управленческой деятельности, ведь уже сегодня многие технологические решения в области цифровизации госсектора разрабатываются и воплощаются в жизнь частными коммерческими компаниями: однажды может наступить момент, когда будет не ясно, кто занимается регуляторной и административной деятельностью — государство или корпорации. Впрочем, неясным будет, по-видимому, и то, что представляет собой государство, какой смысл мы должны будем вкладывать в это понятие.
У цифровой трансформации публичного управления, сопряженной с внедрением цифрового профилирования, предиктивной аналитики, выстраиванием системы допусков и ограничений, при всех ее удобствах обнаруживаются следующие последствия:
1. Цифровизация публичного управления de facto предполагает передачу административных (а отчасти также регуляторных и судебных) функций от традиционных бюрократических ведомств к цифровым платформам. Алгоритмизация правоприменительной деятельности означает движение в сторону постепенного уменьшения роли человека-госслужащего/судьи в процессе принятия решений. Судя по всему, бюрократия должна сохраниться, но преимущественно на верхних этажах власти, т. е. там, где принимаются принципиальные решения стратегического плана; на нижних же этажах она постепенно должна свестись к IT-специалистам, призванным обеспечивать бесперебойную работу цифровых систем и сред, и мелким чиновникам, все еще вынужденным подписывать официальные документы, все большая часть которых должна формироваться в автоматизированном режиме. Данная тенденция не опровергается тем фактом, что в нынешний переходный период размеры бюрократического аппарата могут даже расти: очевидно, что это необходимо для решения задач перехода, после совершения которого чиновничий класс должен будет попасть под масштабные сокращения. Между прочим, то, что в КНР система социального кредита направлена в том числе на оценку работы госслужащих и структурных элементов госаппарата, а в России, например, вводится в действие государственная информационная система противодействия коррупции «Посейдон» [1], предполагающая анализ деятельности, доходов и расходов госслужащих, красноречивым образом свидетельствует о том, что курс на сокращение и сдерживание бюрократии уже взят.
2. Управление, переведенное в цифровые платформы, является управлением обезличенным. Человеческое измерение отправления власти в различных ее проявлениях делается незримым, незаметным. В своей повседневной жизни индивид все чаще и чаще должен сталкиваться не с чиновником или полицейским, а с технологическими интерфейсами, т. е. безличными инструментами управления. Меры государственного принуждения, сколь бы они ни были суровы, перестают ассоциироваться с конкретными государственными служащими и применяются к соответствующим адресатам автоматически, в рамках основанных на работе с репутационными данными систем принятия решений.
3. Поскольку цифровизация управления предполагает цифровое дублирование субъекта, создание его цифрового профиля, т. е. сведение к набору данных в официальных базах, граждане как субъекты права рано или поздно должны из субъектов превратиться в объекты — объекты осуществления контроля, объекты «подталкивания» (nudging) к определенному поведению, объекты оценки со стороны риск-ориентированных инструментов предиктивной аналитики.
Лицо, сведенное к набору данных о нем и выступающее для институтов публичного управления в качестве некоего цифрового профиля или файла, не просто так перестает являться субъектом права. Формально, конечно, никто не отнимает у него качества субъекта правоотношений, наделённого правоспособностью, однако это качество, с сущностной стороны, теряет значительную долю своего смысла. Единица, сведённая к набору данных, не является активным действующим лицом, актором публичных правоотношений, но становится лишь тем, кем (вернее, чем) управляют. Эта единица еще по большей части остается субъектом частных правоотношений, потребителем товаров и услуг, либо их поставщиком, однако в области публичного права ее статус de facto сведен к статусу управляемого объекта.
Можно было бы возразить на это, что гражданин как субъект права всегда являлся адресатом регуляторных мер, индивидуальных и нормативных предписаний, всегда был обязан подчиняться законным предписаниям носителей власти. Это действительно так, но — по крайней мере, в рамках нововременного социального уклада — он также служил исходной величиной государственно-организованного правопорядка, его предпосылкой, и в этой связи являлся не только носителем обязанностей по отношению к властным институциям, но и обладателем гарантированных прав. Сегодняшний «субъект», если о нем еще допустимо говорить таким образом, не может похвастаться тем, что ему что-либо гарантировано, и что он сам является сколь-либо значимой величиной складывающегося на наших глазах правопорядка. У него есть конституционные права и свободы, но достаточно какого-нибудь правительственного декрета или даже решения местных, либо региональных властей, как он не может сделать ни шага без сертификата о вакцинации от нового опасного вируса, мультипасса или «паспорта болельщика». Достаточно постановления уполномоченного министерства, и ему будет отказано в приобретении определенных, не изъятых из гражданского оборота товаров, выезд за рубеж или пользование объектами общественной инфраструктуры. Апелляция к праву и отстаивание своих свобод перед судом также становится все менее перспективным занятием, учитывая то, что все чаще внеконституционные запреты и ограничения, а также делегирование регуляторных и правоприменительных функций алгоритмическим системам обосновываются хитроумными отсылками к неким чрезвычайным или близких к чрезвычайным обстоятельствам (разумеется, без введения режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации), а также жонглированием максимально невнятными по содержанию законодательными нормами, якобы допускающими принятие правоограничительных подзаконных актов. Если в условиях превращения кризиса и чрезвычайного положения в господствующую управленческую парадигму [2. С. 9] нормативно-правовое регулирование все в большей степени тяготеет к исключительным, чрезвычайным по своей сути установлениям [6. С. 197–211], то оно одновременно также открывает дорогу новым, основанным на работе с большими данными способам и формам воздействия на членов общества. Хроническая чрезвычайщина идет рука об руку с цифровой трансформацией.
Как можно понять из представленных выше тезисов, новые социально-кредитные и алгоритмические системы публичного управления предполагают вымывание человеческого фактора, человеческой субъектности сразу с двух сторон: с одной стороны, это уменьшение роли госслужащего и судьи в принятии решений, с другой — превращение гражданина из субъекта публичного права в объект администрирования, утрата прежних позиций в рамках государственно-организованного правопорядка. Данные перемены являются симптомом крайне важного перехода, коренным образом меняющего существующую модель государственности и балансы отношений правящих и управляемых.
4. Перерожденное государство.
Для того, чтобы понять, какие трансформации претерпевает современная модель, или тип государственности в результате внедрения инструментов профилирования, предиктивной аналитики и алгоритмического анализа репутационных данных в практику публичного управления, необходимо сказать несколько слов о том, что же представляет из себя государственность в том виде, в котором мы привыкли о ней думать. Не уяснив для себя специфики уходящей модели, невозможно понять сущность изменений, увидеть качественную новизну в той управленческой модели, которая еще только формируется на наших глазах.
Мы привыкли понимать под государством суверенное территориально-замкнутое политико-правовое образование, конструирующее нацию из населяющих соответствующую территорию людей. Такое понимание (и само государство, описываемое указанными характеристиками) является порождением эпохи Нового времени (так называемого «модерна», или modernity). Это конкретно-историческое понятие, которое мы привыкли использовать как парадигмальное, обозначая им даже те политико-территориальные образования более ранних эпох, которые по тем или иным признакам не соответствуют классическому пониманию stato [8. С. 213]. При этом государственность может быть представлена в более широком смысле и расположена на гораздо более широкой временной шкале: в таком случае, следуя за английским государствоведом Бобом Джессопом, мы можем охарактеризовать государство как «общую трансисторическую форму политической организации» [3. С. 364]. Если следовать этому, более широкому, подходу, логичным будет вывод, согласно которому фундаментальные типы государственности исторически изменчивы, и для каждого такого типа, которые возникали ранее и, очевидно, будут возникать в будущем, характерны различные режимы управления.
Несмотря на то, что «современный» (т. е. относящийся к эпохе модерна) тип государственности вбирает в себя достаточно разноплановые по форме правления и территориального устройства, идеологии и политическим режимам государственные образования, для него в целом характерен ряд объединяющий черт: территориальная замкнутость, суверенитет, тесная связь с понятием нации, различение власти и собственности, а также противопоставление правящих и управляемых (т. е. государства и граждан) друг другу. В качестве наиболее известных и ярких государственных моделей в рамках современного типа государственности могут быть названы модели полицейского государства (Polizeistaat), правового государства (Rechtsstaat), социального государства (Sozialstaat, welfare state). Каждая из этих моделей обладает своей спецификой и происходит из специфических социальных условий, однако что объединяет их всех, что объединяет либерально-демократические и авторитарные режимы, государства социалистической ориентации и теократии, республики и даже монархии, так это опора на идею народного суверенитета. В данном случае речь не идет о том, что органы власти всех государств, относящихся к указанного нами типу, обязательно должны формироваться путем выборов и действовать прозрачно для избирателей. Речь лишь о том, что нация официально или полуофициально, фактически или лишь формально ставится в роли источника учредительной власти в государстве, в качестве источника существующего правового порядка, главного адресата и причины всех государственных усилий и действий, обосновывающего любые, даже самые спорные правительственные инициативы внутри страны и на международной арене.
Эпоха модерна поставила «духовную идентичность нации», если говорить в терминах Майкла Хардта и Антонио Негри [7. С. 98], в сердце государственности; отправление государственной власти сделалось имманентным обществу, тогда как в эпоху премодерна ситуация была принципиально иной: власть средневековых королей, античных римских императоров и древневосточных деспотов или обожествлялась, или обосновывалась отсылкой к некоему трансцендентному порядку, а появление современного государства-нации в XVI–XVIII веках превратило саму национальную общность, нацию, в обоснование и внутренний движитель осуществления государственной власти. К настоящему дню мы привыкли к тому (и часто не задумываемся об этом, принимая как должное), что «народное благо», как бы абстрактно и лицемерно порой ни звучало это словосочетание, выступает в качестве принципиального императива и обоснования функционирования государства: закрепление такого понимания государственности мы можем встретить в текстах конституций, в государственных доктринах или, по крайней мере, в самой политической практике (ни один даже самый авторитарный правитель государства современного типа никогда не признает публично, что его политика преследует сугубо частный интерес и что его решения не связаны с интересами всего общества). Каким бы странным это ни казалось на первый взгляд, но опора на дискурс народного суверенитета присуща как либеральным, так и нелиберальным государственным режимам эпохи модерна, не исключая режимы социалистические и теократические. Традиция говорить от имени народа, разумеется, легко может быть объяснена желанием правительств легитимировать свою деятельность перед самими гражданами и международными акторами, однако на самом деле она значит куда больше. Выступление от имени народа отражает часто недооцениваемый факт: современное государство теснейшим образом связано с гражданским обществом и «является всего лишь одной из частей сложного социального порядка» [3. С. 181]. Не бог, не царь и даже не какой-то отдельный социальный класс или этнос, а гражданин — или, более правильно, граждане как обобщенное множество — является отправной точкой и наиболее значимой фигурой на поле современной государственности.
В мире государственности эпохи модерна (т. е. той государственности, которая только и известна нам и признаки которой мы привыкли экстраполировать на другие эпохи и типы) нация служит воображаемым телом государства. Отсюда — парадоксальное, но вполне логичное следствие: в рамках такого государственно-организованного порядка граждане являются одновременно и объектами управления, и носителями прав по отношению к государству. Именно в эту часть порядка цифровая трансформация публичного управления привносит необратимые изменения.
С одной стороны, как уже отмечалось выше, использование средств алгоритмического управления, цифровое профилирование и социальное ранжирование ведут к постепенному превращению субъектов права в объекты контроля. Индивид из гражданина превращается в пассивного получателя команд, требующих исполнения: важнее оказываются не законодательно закрепленные за ним права и не его качества гражданина (т. е. единицы в обладающем учредительной властью множестве), а то, какая информация о нем зафиксирована в официальных базах данных и как эта информация может быть оценена соответствующими алгоритмическими системами. Над зданием законодательно гарантируемых прав и свобод надстраиваются конструкции дополнительных (чаще всего, обременительных для индивида) требований, обязанностей и запретов: пройти вакцинацию, получить разрешение для посещения футбольного матча, самоизолироваться у себя дома, раздельно сортировать мусор, не допускать сексистских и гомофобных высказываний, и т. п. С появлением все новых требований, в т. ч. выходящих за пределы положений законодательных актов: морально-этических императивов, профессиональных стандартов и различных «защищаемых ценностей», — индивид волей-неволей превращается в своего рода программируемый автомат, и в этом смысле он уже не является хоть в мельчайшей степени источником устанавливаемых норм, он становится лишь дрессированным исполнителем искусственно насаждаемых ритуалов.
С другой стороны, в мире социального ранжирования, дифференцирования управленческих мер, дифференциации перечня и объема публичных услуг в зависимости от социального ранга (или рейтинга) исчезает само гражданское общество как общество равноправных. Если объем правомочий лица определяется в большей степени данными его цифрового профиля, нежели положениями равным образом действующих для всех законов, если для реализации индивидом свои прав и законных интересов ключевое значение приобретает то, к какому множеству (классу, грейду и т. д.) его отнесли алгоритмы искусственного интеллекта, тогда и ценность каждого индивида в рамках государственно-организованного правопорядка не может быть даже формально одинаковой. На смену гражданскому обществу приходит ранжированное общество [23]. Здесь можно было бы поспорить с указанием на гражданское общество как характерный элемент государственно-организованного правопорядка эпохи модерна и вспомнить историю дискриминации отдельных категорий граждан со стороны тоталитарных режимов XX века, однако данная аналогия не является подходящей в контексте обсуждения последствий цифровой трансформации: тогда как тоталитарные режимы прошлого были склонны к исключению отдельных групп населения из тела нации (т. е. из состава гражданского общества), новые режимы датафицированного управления никого не исключают, но нацелены на перманентное ранжирование и перманентную (пере)оценку объектов регулирования и контроля. Вместо категоричных бинарных оппозиций («арийцы» / «неарийцы», «трудящиеся» / «враги народа» и т. п.) в цифровую эпоху, судя по всему, приходит разделение на потенциально бесконечное количество прозрачных и проницаемых множеств. Modus operandi нового режима управления — не исключение, а, напротив, включение всех и вся (в «цифровой контур», цифровую среду) с последующим ранжированием.
Как уже отмечалось выше, управление, перенесенное на цифровые платформы, является обезличенным и предстает как-бы-нейтральным. Гражданин реже сталкивается с чиновником, а общается с государством все чаще через специальные электронные интерфейсы. Это удобно, однако в перспективе это означает фактическую невозможность для граждан донести свои требования до носителей власти. Становится непонятным, к кому требования должны быть обращены, кого винить в провалах и неудачах государственной политики, против чьих решений протестовать. Какая-либо связь между правящими и управляемыми пропадает, а остается лишь кажущийся объективным посредник. Отправление публичной власти делается анонимным: в то время как физические, юридические и остающиеся на нижних этажах властной вертикали должностные лица должны быть максимально прозрачны и предсказуемы для правящей элиты, сама эта элита, будучи скрытой в тени цифровых платформ и ассистентов, может быть совершенно недоступна какому-либо контролю снизу. Граждане, фактически переставшие быть гражданами, оказываются в положении бессловесных единиц в поголовье скота: их по-прежнему может что-то не устраивать, они могут заявлять о своих законных правах, но их шансы получить на свои заявления какую-либо положительную реакцию становятся равными нулю.
5. Заключение.
Цифровая трансформация государства имеет целый ряд удобств и выгод, но это выгоды, в основном, для правящих, а не управляемых. Безусловно, массы, поставленные под контроль основанных на анализе данных систем публичного управления, должны сделаться более предсказуемыми и послушными, что означает перспективу упрощения управления и снижения управленческих издержек. Повышение предсказуемости социальных взаимодействий означает возможность снижения преступности и укрепления общественного порядка, однако также означает практическую невозможность борьбы граждан за свои права и интересы в будущем. Системы датафицированного управления воплощают собой как-бы-нейтральную, объективную технику, выступать против которой не имеет смысла. Можно предположить, соответственно, что эта кажущаяся объективность однажды будет использована правящими кругами для того, чтобы свести на нет все те права и свободы, которые являются завоеваниями прошлых эпох.
Цифровая трансформация управления — это одновременно и трансформация всего существующего правопорядка, вместе с известными нам конституционализмом и системой публично-правовых отношений. Сегодня большинство из нас, к сожалению, некритично воспринимают новейшие технологические изменения, но, возможно, самое время задаться старинным вопросом: «Qui prodest? Кто, в долгосрочной перспективе, оказывается в выигрыше от удобных изменений сегодня?». Так или иначе, тревожные перспективы, открывающиеся вместе с активным внедрением технологий Четвертой промышленной революции в сферы государственного управления, правового регулирования и правоприменения, уже сегодня должны стать основанием для широчайшей и предельно острой дискуссии о целеполагании, выгодоприобретателях, дизайне и пределах ожидаемых изменений. В конце концов, не следует забывать, что технологии не внедряются сами по себе — их внедряют.
Список литературы
- О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 25.04.2022 № 232 // СЗ РФ. 2022. № 18. Ст. 3053.
- Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. — М.: «Европа», 2011.
- Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее / пер. с англ. С. Моисеева. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 504 с.
- Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа: (кибер)государство для цифровой экономики. — М.: Институт стратегических разработок, 2018. — URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/313/3132b2de9ccef0db1eecd56071b98f5f.pdf (дата обращения: 07.09.2022).
- Рувинский Р. Система социального кредита в Китае: модель конституционализма для кризисной эры // Сравнительное конституционное обозрение. — 2021. — № 3 (142). — С. 63–85.
- Рувинский Р. З. Правопорядок в период глобального кризиса: трансформации, тенденции, угрозы. — СПб.: Алетейя, 2020. — 350 с.
- Хардт М., Негри А. Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. — М.: Праксис, 2004. — 440 с.
- Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной исторической эпохой // Логос. — 2012. — № 5 (89). — С. 205–215.
- A Blueprint for Digital Identity / World Economic Forum, 2016. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf [Access 16 February 2022].
- Digital Government 2020: Prospects for Russia / World Bank, 2016. — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russia.pdf (дата обращения: 12.09.2022).
- Digital Identity: Towards Shared Principles for Public and Private Sector Cooperation / World Bank, 2016. — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24920/Digital0identi0e0sector0cooperation.pdf (дата обращения: 12.09.2022).
- Technology Landscape for Digital Identification / World Bank, 2018. — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31825/Technology-Landscape-for-Digital-Identification.pdf (дата обращения: 12.09.2022).
- Alauzen M. The platform state and digital identification of users: The FranceConnect design process // Réseaux. — 2019. — № 1 (213). — P. 211–239.
- Blomberg M. The Social Credit System and China’s rule of law // Mapping China Journal. — 2018. — No. 2. — P. 77–162.
- Creemers R. China’s Social Credit System: an evolving practice of control // SSRN Electronic Journal. — May 9, 2018. — URL: https://ssrn.com/abstract=3175792 (дата обращения: 12.09.2022).
- Dai X. Toward a reputation state: a comprehensive view of China’s Social Credit System project // Social Credit Rating: Reputation und Vertrauen beurteilen / ed. by O. Everling. — Wiesbaden: Springer Gabler, 2020. — P. 139–164.
- Dencik L. The datafied welfare state: A perspective from the UK // New Perspectives in Critical Data Studies. — 2022. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-96180-0_7 (дата обращения: 12.09.2022).
- Grönlund Å., Horan T. A. Introducing e-Gov: History, definitions, and issues // Communications of the Association for Information Systems. — 2005. — Vol. 15. — P. 713–730.
- Kassen M. Building digital state: Understanding two decades of evolution in Kazakh e-government project // Online Information Review. — 2019. — № 2 (43). — P. 301–323.
- Karippacheril G., et al. Bringing Government into the 21st Century: The Korean Digital Governance Experience. — Washington, D.C.: World Bank, 2016. — URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24579/9781464808814.pdf (дата обращения: 12.09.2022).
- Mac Síthigh D., Siems M. The Chinese Social Credit System: A model for other countries? // Modern Law Review. — 2019. — No. 6 (82). — P. 1034–1071.
- Tomlinson J. Justice in the Digital State: Assessing the next revolution in administrative justice. — Bristol: Policy Press, 2019.
- Yu K. Towards graduated citizenship: A study of social credit systems in China // Critique: a worldwide student journal of politics. — 2020, Spring. — P. 28–55.
Оригинал публикации: https://digitaltechnologiesandlaw.org/files/2022/sbornik/tom-1.pdf. Настоящий текст представлен в авторской редакции.
